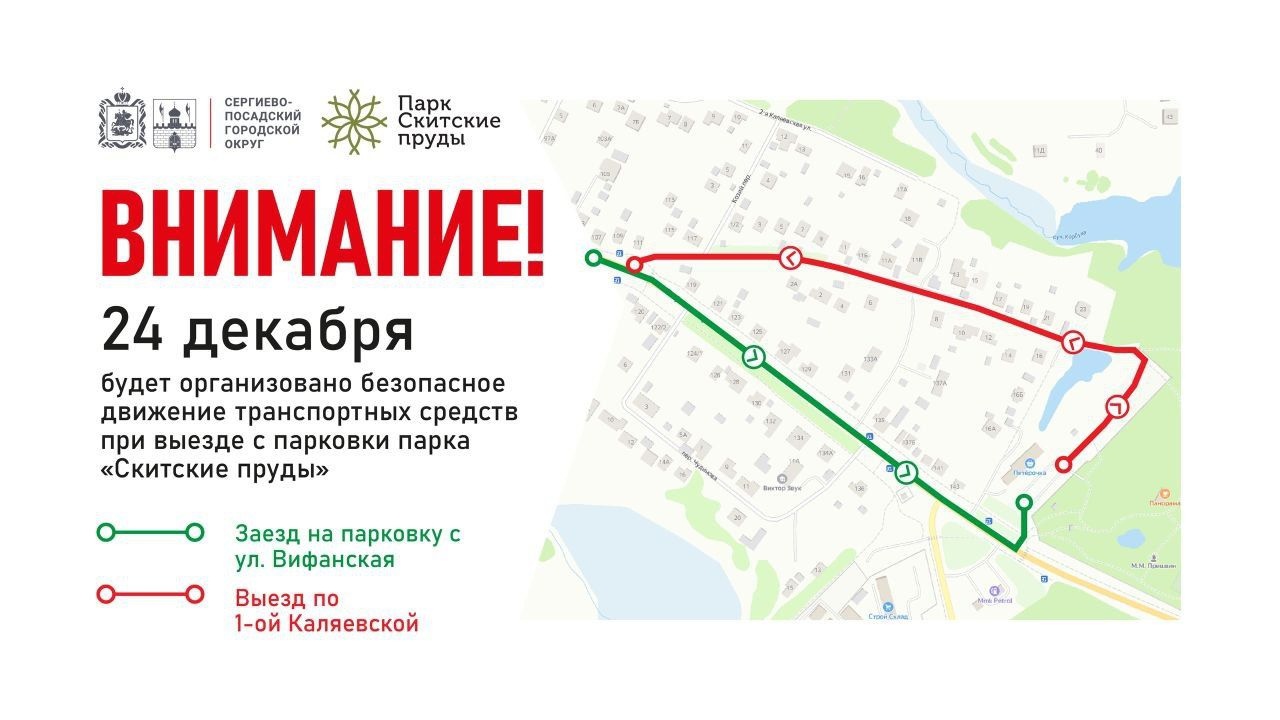Главные новости

Почти 200 лет наши предки мечтали обрести самостоятельность, чтобы не подчиняться другим городам Московской губернии и создать свой уезд — Сергиевский. Мечта осуществилась в 1919 году. Революции тем и хороши, что ломают закосневшие устои и открывают путь к прогрессу. Считаю, справедливости ради логичнее юбилейный Малый венок возложить не к монументу Сергия Радонежского, а к памятнику В. И. Ленина.
На Ярославском тракте важную роль играла и играет Троицкая дорога, ведущая к храму, — к знаменитой обители Сергия Радонежского. С севера от Архангельска и с юга от Москвы по этой дороге веками шли и ехали к Троице богомольцы, иностранные путешественники, служивый люд. Без малого сто километров этой дороги проходит по Сергиево-Посадскому району, и до сих пор, начиная с XVI века, она приносит путнику массу неудобства. Лет пять назад в Посад приехали старшеклассники из немецкой школы, чтобы закрепить свои познания в русском языке. Утром они еле поднялись с кровати — их, как они сказали, "растрясло". А ехали они по окружной дороге, которую мы расхваливали на все лады. На европейских трассах не то что не трясет, даже не качнет: лишь шуршат шины по асфальту. Слово "растрясло" употребил в дневнике историк М. П. Погодин еще в мае 1830 года, когда возвращался под дождем в кибитке из Троицы в Москву. И до сих пор, когда подкинет машину и задребезжат и ее, и наши внутренности, как не вспомнить вещие слова А. С. Пушкина из 7-й главы "Евгения Онегина":
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет ...
***
До середины XVII века Троицкую дорогу никто не описывал. Посещавшие Россию иноземцы, ученые, послы, миссионеры, купцы, наемники, польские захватчики и т. п. ехали с определенной целью и на дорожные невзгоды не отвлекались. К тому же они не замечали несовершенства наших дорог, вероятно, потому, что и их дороги в ту пору были не хуже и не лучше российских. Впервые упомянул российские дороги, включая и Троицкую, Павел Алеппский, приехавший в 1654 году с отцом, Антиохийским патриархом Макарием как его секретарь, чтобы описать поездку в незнакомую страну. Вспоминая дорогу от "татар до ляхов", он записал, что "все дороги были покрыты водой: на них образовались ручьи, реки и непролазная грязь. Поперек узкой дороги падали деревья, которые были столь велики, что никто не был в силах их разрубить или отнять прочь: когда подъезжали подводы, то колеса их поднимались на эти деревья и потом падали с такой силой, что у нас в животе разрывались внутренности. И эти мытарства в стране столь великой, что нужно потратить четыре года, чтобы проехать ее вдоль и поперек".
В Троицком монастыре их поместили в кельях, где останавливалась царица. "Откушав, мы встали ко сну, чтобы немного отдохнуть; но спать не пришлось, потому что комаров, блох и мух были миллиарды, больше чем пыли на земле. В эти три месяца, май, июнь, июль, бывает их пора в здешних странах, и они никому не дают покоя ни днем ни ночью — Бог да не благословит их плодовитостью!"
Ученый итальянец Яков Рейтенфельс в 1671 году поразился лихостью русских ямщиков, с которой они по раскисшим дорогам, с посвистом, заломив шапку, разъезжали по своей необъятной стране. Стоит только ямщику, подъезжая к какой-нибудь ямской станции, издать "при помощи зубов пронзительный свист", как сразу же, услыхав его, ямщики ближайшей деревни "тотчас приводят свежих лошадей, дабы проезжие могли, не теряя времени, продолжать путь, если пожелают".
Новая столица Российской империи затмила в XVIII веке и Москву, и Троицу. До 1839 года, до приезда в Россию маркиза де Кюстина, никто из иностранцев в Троице-Сергиев монастырь не приезжал. Кюстин приехал по приглашению Николая I, чтобы он написал панегирик ему и его монархии. Но Кюстин, не имея привычки лгать, заявил в книге "Николаевская Россия", что деспотизм, монархия — "самый аморальный из всех существующих образов правления" и что "каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране".
Кюстину был оказан роскошный прием при дворе и даровано право осмотреть главные города России.
«Дороги летом 1839 года были ужасны. На каждой станции от границы до Москвы «сельские циклопы», "благословляя колеи и рвы отеческой земли", чинили "изделье легкое Европы" маркиза де Кюстина. Наученный горьким опытом, он, собираясь в Нижний Новгород, нанял для этой небольшой поездки русский тарантас на рессорах (кстати, и он не выдержал).
«Известные своим беспристрастием москвичи уверили меня, что я найду в монастыре очень сносное место ночлега. Действительно, монастырское подворье, расположенное вне ограды лавры, оказалось довольно внушительным зданием с просторными и по внешнему виду вполне подходящими для жилья комнатами. Но, увы, внешность была обманчива. Не успел я улечься с обычными предосторожностями, как убедился, что на этот раз они меня не могут спасти, и вся ночь прошла в ожесточенной битве с тучами насекомых. Каких там только не было! (...) Эти насекомые остаются в наследство от паломников, стекающихся к Троице со всех концов Российской империи, и размножаются в невероятном количестве под сенью раки святого Сергия (...) Я вскочил с постели, бросился к окну и распахнул его. Это дало мне краткую передышку, но кошмар преследовал меня повсюду. Стулья, столы, потолок, стены, пол — все казалось живым и буквально кишело". Кюстин пишет, что у его камердинера распухло лицо и глаза превратились в щелочки. "Без слов указал он мне на свой плащ, ставший из голубого, каким он был вчера, каштановым. Плащ словно двигался на наших глазах, во всяком случае, он покрылся подвижным узором, напоминая оживший персидский ковер. От такого зрелища ужас охватил нас обоих".
19 августа 1858 года Троице-Сергиев монастырь посетил знаменитый писатель Александр Дюма - отец, ехавший из Москвы со своими спутниками и русским другом Нарышкиным в его имение Елпатьево в Переславль-Залесском уезде. Приехали они под вечер по "великолепной, усаженной деревьями" дороге в коляске, на четырех рысаках.
"На подступах к Троицкому вы проезжаете по довольно обширному посаду, возникшему вокруг монастыря; он насчитывает тысячу домов и шесть церквей, — пишет он в главе "Троицкий монастырь" в трехтомнике "Путевые впечатления в России".
Местность вокруг монастыря холмистая, что придает ей более живописный вид, чем это свойственно русским городам, обычно расположенным на равнинах; сам монастырь возвышается над всем; он окружен высокой и толстой крепостной стеной с восемью сторожевыми башнями".

В "монастырском заезжем дворе" они подкрепились привезенным с собой ужином (русскую еду Дюма ел скрепя сердце). Остались ночевать. "Комнаты грязные, а постели жесткие. Но в конце концов за чашкой превосходного чая и дружеской беседой, — подтрунивает над русским сервисом Дюма, — можно без труда дотянуть до двух часов ночи, а если встать в шесть утра, то дело сведется всего-навсего к четырем часам мучений.
Ну а в обители святого Сергия вполне можно пойти на четыре часа мучений". Осмотрев лавру, Александр Дюма поехал в Вифанский монастырь на посадском транспорте — на тарантасе.
"Вообразите себе, — начинает Дюма описание тарантаса, давая волю своей игривой иронии, — огромный паровозный котел на четырех колесах с окном в передней стенке, чтобы обозревать пейзаж, и отверстием сбоку для входа.
Подножка для тарантаса пока еще не изобретена. Мы попадали в него с помощью приставной лесенки (...) Когда пассажиры погрузились внутрь, лесенку прицепили к козлам.
Поскольку тарантас не подвешен на рессорах и не имеет скамеек, он устлан изнутри соломой, которую не в меру щепетильные пассажиры могут, если пожелают, сменить (...)
В тарантасе могут без труда поместиться от пятнадцати до двадцати путешественников.
Увидев это устрашающее сооружение, имеющее некоторое сходство с коровой Дедала или быком Фаларида, Муане и Калино (Муане — художник, Калино — студент университета, взятый в Москве как переводчик. — Ю. П.) заявили, что, поскольку расстояние, которое предстоит проехать, не превышает трех верст, они пойдут пешком (...)
Нам (это сам Дюма, актриса Женни Фалькон, подруга Нарышкина, и слуга его француз Дидье Деланж. — Ю. П.) потребовалось добрых три четверти часа, чтобы проехать три версты по отвратительной дороге, но среди прелестного ландшафта. Поэтому, когда мы прибыли, оказалось, что Муане и Калино уже двадцать минут как там".
Если от Москвы до Троицы грунтовую дорогу привели к середине XIX века в божеский вид и Дюма ее назвал "великолепной, усаженной деревьями", то на дорогу до Переславля-Залесского махнули рукой, и она предстала перед глазами писателя в прежнем, допотопном виде.
Дюма поехал к Переславлю по той, которая "считалась лучшей". В изображении Дюма дорога — это болото или трясина, на которой поперек уложены в ряд сосновые стволы, "скрепленные друг с другом". Вот по этому длинному, с версту, зыбкому настилу, "сотрясавшемуся под копытами лошадей и колесами экипажа", им и пришлось пробираться к месту назначения.
Зимой 1858 года в Россию приехал известный поэт, автор повестей и искусствоведческих работ Теофиль Готье. Это был первый писатель, сказавший о России, о ее культуре и ее жителях самые добрые и сердечные слова, и первый искусствовед, пожелавший написать трактат "Сокровища русского искусства".
В Петербурге Готье "изнывал от желания увидеть настоящую столицу, великий город Москву". Дорога была прекрасна! "Снег — это универсальная железная дорога", восхищался Готье, во все концы на шесть зимних месяцев и самая дешевая в мире. Друзья в Москве предложили Готье, пораженному своеобразием московского зодчества, съездить еще и в другие места.
"Если в Москве у вас окажется несколько свободных дней, — пишет Готье в книге "Путешествие в Россию", — когда основные достопримечательности города уже осмотрены, есть экскурсия, которую вам непременно предложат, и на нее нужно тотчас соглашаться. Это посещение Троице-Сергиева монастыря. Путешествие стоит труда, и никто не раскаивался в том, что его совершил".
И вот в три часа утра при кромешной тьме и морозе в 31 градус Готье с двумя спутниками, облаченный во столько одежек, что в них можно "одеть с ног до головы еще одного смертного", в варежках самоедов и огромной меховой шубе втиснулся в кибитку "вроде ящика", и, поскольку "русские кучера любят быструю езду и лошади разделяют эту страсть", кибитка понеслась во весь опор по Троицкому тракту (...)
На постоялом дворе, где "в низкой комнате мужики в грязных тулупах, со светлыми бородами, красными лицами, на которых светились полярно-голубые глаза, собрались вокруг медного сосуда и пили чай, другие в это время спали на скамьях у печи", путников провели отдохнуть "в высокую, обитую досками комнату, которая походила на ящик из сосновых досок". Там они съели московские запасы, напились чаю из самовара и двинулись по совершенно безлюдной дороге дальше.
"При приближении к Троице-Сергиеву монастырю, — начинает Готье свое повествование о Сергиевом Посаде, — жилища встречаются чаще, чувствуется, что мы подъезжаем к важному населенному пункту. И действительно, к монастырю из дальних мест стекаются паломники. Сюда приходят отовсюду, ибо святой Сергий, основатель этого знаменитого монастыря, является одним из наиболее чтимых святых".
Когда стемнело, Теофиль Готье, осмотрев монастырь, вернулся на постоялый двор, где его "ожидала мягкая теплынь русских домов. Обед был сносный. Сакраментальный суп с капустой, фрикадельками из рубленого мяса, как и стерлядь, составлял меню, и все это запивалось легким крымским белым вином вроде "настойки из эпилепсии", которая для развлечения может соперничать с шампанским и не является в конце концов неприятным напитком.
После обеда несколько стаканов чая и несколько затяжек русского, чрезвычайно крепкого табака, который курят в маленьких трубках, похожих на китайские, развлекли меня до того момента, когда нужно было укладываться спать.
Я признаюсь, что мой сон не потревожил ни один из тех агрессоров, чье мерзкое ползание превращает кровать путешественника в поле кровавой битвы. Итак, я попросту лишен возможности в патетических тонах сказать здесь хоть что-либо плохое в адрес здешней чистоты и храню до другого раза цитату из Генриха Гейне: "Дуэль с клопом! Фи! Его убивают, а он вас отравляет!" Впрочем, была же зима, и чтобы уничтожить все это мерзкое отродье, достаточно было при морозе в 25 — 30 градусов оставить окно спальни открытым.
Утром, с раннего часа, я возобновил свою работу туриста в Троице-Сергиевом монастыре. Я обошел все церкви, которые не видел накануне и подробное описание которых не стоит делать, так как внутри, подобно литургическим формулам, они повторяются с небольшими отклонениями. Что касается их внешнего вида, то стиль рококо самым неожиданным образом примешался здесь к византийскому стилю. Впрочем, трудно дать этим церквям их настоящий возраст: то, что кажется древним, вполне возможно, только вчера было покрашено, и следы времени исчезают под слоями без конца возобновляемой покраски".
* * *
На рубеже XVIII-XIX веков те, кто ехал или шел на богомолье в святую обитель Сергия, на дорожные неудобства внимания не обращали и путевых заметок не писали. В начале XIX века открыл историческую и духовную значимость Троицкой дороги будущий автор многотомной "Истории Государства Российского" Н. М. Карамзин, издавший в 1803 году книгу "Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре". Облеченный высокой целью, увлеченный прошлым своей Родины, Карамзин создал образ дороги, где что ни верста, то достопримечательность.
Каждое село на Троицкой дороге, каждый разваливающийся, забытый по невежественному небрежению царский дворец, каждая постройка, каждая речка или лесок вызывали в памяти будущего историографа картины далекого прошлого. Воссоздавая былую жизнь в этих местах, Карамзин сетовал на то, что опираться ему приходится, к сожалению, не на сведения из русских летописей, а на книги иностранных путешественников — Герберштейна, Петрея, Олеария, Маржерета и других. Отечественные же летописцы и "не подозревали, что должно изображать характер времени в его обыкновениях, не думали, что сии обыкновения меняются, исчезают и делаются занимательным предметом для следующих веков".
"Возобновив в памяти своей дела нашей древности, в прекраснейшее время года я выехал из Москвы на ту дорогу, по которой столь часто цари русские езжали и ходили на богомолье, испрашивать победы или благодарить за нее всевышнего в обители, основанной святым мужем".
Первым (возьмем для примера хотя бы одно) на пути открылся дворец царя Алексея Михайловича в селе Алексеевском, старейший деревянный дом в России. "Стены разрушаются; но я осмелился войти в дом и прошел во всю длину его (...) Перед окнами растут две березы, из которых одна запустила корень свой под самый дом: может быть, царица Наталья Кирилловна посадила их! Другая стена без окон, но с дверьми в сад или в огород, который, без сомнения, украшался всего более подсолнечниками (этот вкус видим еще и ныне в провинциальных купеческих огородах); теперь густеют в нем одни рябины, малиновые и смородинные кусты, такие старые, что царевны могли еще брать с них ягоды. Тут видны развалины двух бань (...) Большая каменная церковь Алексеевская сооружена также царем Алексеем Михайловичем. Дворец подле нее. Пусть одно время разрушит его до основания, а не рука человеческая! У нас мало памятников прошедшего: тем более должны мы беречь, что есть!"
Рассказав о Мытищинских колодцах, откуда пошла вода в Москву, о селе Пушкино, где был взят под стражу И. А. Хованский, Карамзин отмечает:
"Троицкая дорога ни в какое время года не бывает пуста, и живущие на ней крестьяне всякий день угощают проезжих с большою для себя выгодою. Они все могли бы разбогатеть, если бы гибельная страсть к вину не разоряла многих".
После Воздвиженского, где казнили князей Хованских, "верст за семь от Троицы открываются среди зелени лесов златые главы церквей ее вокруг огромной колокольни, подобной величественному столпу. Я взъехал на гору Волкушу... Русские патриоты! это место должно быть вам известно", потому что здесь русские люди, не имея государя, "сражались за одну Россию" и освободили ее от "чужестранных тиранов". Более вдохновенного и детального описания монастыря, более глубокого проникновения в глубь его истории и неразрывной связи ее с общероссийской читатель не найдет ни в одном путеводителе по монастырю и Сергиеву Посаду. О "четырех эпохах славы" монастыря прочитал Карамзин на каменном обелиске у колокольни: благословение Сергия на Куликовское сражение, данное Дмитрию; мужество "троицких сидельцев" при осаде лавры ляхами; патриотические воззвания к гражданам России, приведшие к созданию Народного ополчения и Деулинскому миру (Карамзин в Деулине застал еще ту самую древнюю церковь, видел еще остатки укреплений); спасение Петра I от стрельцов и от Софьи.
***
Никто так хорошо не знал Троицкую дорогу, как писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, живший с родителями в имении Спас-Угол (ныне Талдомский район), от которого до Сергиева Посада было всего 70 верст и в котором ему приходилось останавливаться на ночлег.
О поездке в Москву, о ночлеге в Сергиевом Посаде писатель рассказал в последнем своем произведении, наиболее автобиографическом, "Пошехонская старина" (1887-1889) от имени героя романа Никанора Затрапезного (слово "затрапезный" означает "будничный").
“Главная остановка нам предстояла в Сергиевском Посаде, где я тоже до тех пор не бывал. Посад стоял как раз на половине дороги, и матушка (в романе ее имя Анна Павловна. — Ю. П.) всегда оставалась там дольше, нежели на других привалах. Теперь она спешила туда к вечерне.
Мы не доехали трех верст до посада, как уже разнесся удар монастырского колокола, призывавший к вечерне. Звуки доносились до нас глухо, точно треск, и не больше как через пять минут из одиночных ударов перешли в трезвон (...)
Дорога, которая вела от монастырских ворот к церкви, была пустынна. Это была широкая аллея, с обеих сторон обсаженная громадными липами, из-за стволов которых выглядывали разные монастырские постройки: академия, крохотные церкви, с лежащими в них под спудом мощами, колодцы с целебной водой и т.п. По местам встречались надгробные памятники, а на половине дороги аллея прервалась, и мы увидели большой Успенский собор. Но по мере того, как время приближалось к всенощной, аллея наполнялась нищими и калеками, которые усаживались по обеим сторонам с тарелками и чашками в руках и тоскливо голосили. Я (...) бегом устремился вперед, так что матушка, державшая в руках небольшой мешок с медными деньгами, предназначенными для раздачи милостыни, едва успела догнать меня.
— Ты что, белены объелся, ускакал! — выговаривала она мне, — я и милостыню раздать не успела... Ну, да и то сказать, Христос с ними! Не напасешься на них, дармоедов (...)

По возвращении на постоялый двор (ради экономии мать в гостинице не останавливалась. — Ю. П.) матушка в ожидании чая прилегла на лавку, где были постланы подушки, снятые с сиденья коляски.
От скуки я взял свечку и подошел к стене, которая была сплошь испещрена стихами и прозою.
Проза, со своей стороны, гласила:
"Спрасите здешнию хозяйку, каков есть Митрей Михальцоф...".
Но в самый разгар моих литературных упражнений матушка вскочила как ужаленная. Я взглянул инстинктивно на стену и тоже обомлел: мне показалось, что она шевелится, как живая. Тараканы и клопы повылезли из щелей и, торопясь и перегоняя друг друга, спускались по направлению к полу. Некоторые взбирались на потолок и сыпались оттуда градом на стол, на лавки, на пол...
— Ты что там подлости на стенах читаешь! — крикнула на меня матушка, — мать живьем чуть не съели, а он вон что делает!
Матушка хотела сейчас же закладывать лошадей ехать дальше, с тем чтобы путь до Москвы сделать не в две, а в три станции, но было уж так темно, что Алемпий воспротивился.
— Раньше трех часов утра и думать выезжать нельзя, — сказал он, — и лошади порядком не отдохнули, да и по дороге пошаливают. Под Троицей, того гляди, чемоданы отрежут, а под Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят. Там, сказывают, под мостом целая шайка поджидает проезжих. Долго ли до греха!
Матушка взглянула на заветный денежный ящик, на лукошко с персиками и сдалась».
***
Есть в русской литературе XX века истинно русская книга "Богомолье". Написал ее Иван Сергеевич Шмелев в 1931-1948 годах, находясь в эмиграции и негодуя на Страну Советов (в годы Великой Отечественной войны он был "участником парижских молебнов о даровании победы Гитлеру" (И.Бунин) и сотрудничал в пронемецкой газете "Русские мысли").
Никто до Шмелева так широко не развернул картину народного паломничества к Троице, куда в компании взрослых пошел пешком из Москвы по Троицкой дороге семилетний мальчик Ванюша Шмелев в 80-е годы XIX века.
Повествование в "Богомолье" ведется не протокольно, а образно и живо: с людской перебранкой, с чаепитием и дракой, с духовными песнопениями и обманом, с чудесами и сплетнями, с дремучим невежеством и небесным просветлением устремленных к божьему угоднику Сергию паломников. И настолько перевиты события в пути, настолько взаимосвязаны встречи, настолько все срослось в едином порыве богомольцев к утешению и обнадеживающим словам, что вычленить какой-нибудь эпизод, не прибегая к пояснениям, довольно-таки трудно.
Иван Сергеевич Шмелев с открытым сердцем и душой маленькими детскими шажками, на тележке, на руках взрослых прошел этот путь вместе с лапотным, болезным, святым и грешным русским народом, соединив в рассказе восторженно-пытливый "розовый" мир ребенка, наблюдательность писателя-реалиста и ностальгические воспоминания русского изгнанника о любимой родине.
По холодку, раненько отправились наши пилигримы в дальнюю дорогу. Зашли помолиться в Кремль, на выезде из Москвы в трактире у Брехунова подкрепились, почаевничали в Мытищах. Переночевали с клопами в Пушкине, попереживали в Талицах и Кащеевке, где, по рассказам, разбойники сидят-дожидаются, завернули в Хотьково — родителям Сергия поклониться, а заодно и переночевать там.
Наконец теплым ранним утром услышали путники вдалеке монастырский благовест и увидали на пригорке долгожданную Сергиеву лавру.
"А тут уж и Посад виден, и Лавра вся открывается, со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша, и течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уже запахло, дымком от кузниц (...)
Идем по белой дороге, домики уж пошли, в садочках, и огороды с канавами, стали извощики попадаться и подводы. Извощики особенные, не в пролетках, а троицкие, широкие, с пристяжкой (...)
Мы — в Посаде, у Преподобного. Ходим по тихим уличкам. Разыскиваем игрушечника Аксенова, где пристать. Торопиться надо — меня на гостиницу отвести, папашеньке передать с рук на руки. Горкину надо в баню сходить помыться после дороги, перед причастием, да Преподобному поклониться, к мощам приложиться, да к Черниговской, к старцу Варнаве, сбегать поисповедоваться, да всенощную захватить в соборе (...)
Улицы в мягкой травке, у крылечка "просвирки" и лопухи, по заборам высокая крапива, — как в деревне. Дощатые переходы заросли по щелям шелковкой, такой-то густой и свежей, будто никто и не ходит. Домики все веселые, как дачки, — зеленые, голубые; в окошках цветут гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, — и все скворешники на березах. (...) И отовсюду видно розоватую колокольню-Троицу: то за садом покажется, то из-за крыши смотрит — гуляет с нами. Взглянешь — и сразу весело, будто сегодня праздник. Всегда тут праздник, словно Он здесь живет (...)
Я устал, сажусь у столбушков на краю оврага, начинаю плакать. В овраге дымят сарайчики, "блинные" там на речке, пахнет блинками с луком, жареной рыбкой, кашничками... Лежат богомольцы в лопухах, сходят в овраг по лесенкам, переобувают лапотки, сушат портянки и онучи на крапиве. Повыше, за оврагом, розовые стены Лавры, синие купола, высокая колокольня-Троица — туманится и дрожит сквозь слезы (...)
Вот широкая площадь, белое здание гостиницы. Все подкатывают со звоном троицкие извощики. А мы еще все плетемся — такая большая площадь (...) Девчонки суют нам тарелки с земляникой, кошелки грибов березовых. Старичок-гостинник, в белом подряснике и камилавке, ласково говорит, что у Преподобного плакать грех, и велит молодчику с полотенцем проводить нас "в золотые покои".
Мы идем по широкой чугунной лестнице. Прохладно, пахнет монастырем — постными щами, хлебом, угольками".
На следующий день рано утром приложились к мощам, поставили свечку дорожную, зашли в хлебную "благословиться хлебцем". (По заведенному издревле порядку, каждый богомолец получал в Троице ломоть душистого свежего хлеба.) Прошлись по игрушечным рядам. Шмелев несколько страниц истратил, перечисляя названия игрушек, всяких поделок, вспоминая десятки предлагаемых в блинном ряду кушаний и выкриков зазывал. Они напробовались всякой разной снеди в блинных рядах, полных аппетитных запахов и призывных слов торгующих, попрощались с хозяином, вышли за ворота, покрестились на Троицу...
Юрий ПАЛАГИН
Нет таблицы news_voting
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?